Ольга Боровикова мечтала о карьере артистки, а стала комиссаром. Сначала - на войне, потом – по жизни

В апреле 1919 года наша страна была, как впрочем и всегда – на великом переломе… Именно тогда родилась Ольга Николаевна Серякова.
Отец Оли одним из первых стал озеленителем Вологды. Именно «его» тополя до сих красуются на улицах Молочного, Прилук, в Кувшинове, в Осанове.
- Папа всегда, кроме большой семьи, вез с собой целое «зеленое» хозяйство, - вспоминала Ольга Николаевна. - Горшки, саженцы, семена, лопаты, грабли. Наш дом слыл оазисом красоты – где бы мы ни жили. Дома тоже всегда царила красота: фикусы, аспарагусы и розы в горшках. По тем временам это была редкость. А самые первые годы прожила в Молочном, в рабочем поселке Фоминское. Нас было семеро у родителей, но трое умерли в раннем возрасте: две Симы, Катя, Таня, Николай, Михаил, я. Папа рассказывал, как в 14 лет, когда умер его отец, вынужден был пойти на заработки к местному помещику – садовником, там его и научили профессии. Сестра его работала там же - горничной. Там он и с мамой моей познакомился. Папа вспоминал, мол, барин был добрый, часто одаривал своих работников, заботился о них, по праздникам с балкона разбрасывал им пряники и монеты.
В Молочном жили мы в одноэтажном флигеле: в нем же жили и рабочие.
В 1928 году пошла в первый класс девятой школы Вологды на улице Орлова.
- В школе я занималась художественной самодеятельностью, на школьных концертах всегда была конферансье. Педагоги рекомендовали после школы в «артистки» меня и подругу Тусю Сафонову, и мы уже настроились на поступление в студию МХАТа. В 1935 году окончила я пять классов и уже «намылилась» в Москву, но неожиданно этому воспротивилась старшая сестра Тоня: «Ты – комсомолка! Что это за профессия! Пойдешь в артистки – ты мне не сестра!». И пошла я в кооперативный техникум. С тех пор помню только педагога русской литературы Атабекова из пединститута, да худсамодеятельность. Мечту о театре не забывала: бегала в драмкружок, играла пьесе «Трактористы», Софью в «Горе от ума», фрагмент из «Рулсана и Людмилы».
Одновременно курировала пионерскую организацию в Семенкове, ходила пешком километров 10 от Вологды, автобусов ведь не было. В 1938 году окончила техникум.
22 июня 1941 года услышала по радио – началась война. Утром 23-го в 7. 45 пришла на рабочее место – была комсоргом, приходила всегда раньше всех.
- Пришла на работу, - вспоминает Боровикова, - а на моем столе пачка документов. «Что это так рано почту принесли?», - спрашиваю. Оказалось, что еще до 8 часов утра все мои коллеги, кроме четверых, написали заявления - с просьбой отправить на фронт добровольцами. До 9 часов лежали уже такие заявления от ста процентов работников, включая и меня. С этой пачкой и пошла я в горком комсомола на Козленскую улицу. А там - толпа, и все с такими пачками. Отстояла очередь, а там спецкомиссия, проверяет каждого комсомольца. Меня отсеяли – иждивенцы на мне - мама и брат-школьник. А вскоре пригласили в обком комсомола и послали в Череповецкий район – на должность замначальника политотдела Абакановской МТС.
Тогда вышел приказ по Минсельхозу СССР, чтобы и политработники осваивали трактора, я и «освоила».
В 1942 году ушла Олечка на войну:
- Был призыв женщин-политруков на фронт, - говорит она. – Отбирали добровольцев, и вот тут вспомнили о моем заявлении. Пригласили на беседу в Вологду, сказали, что доверили это важное поручение правительства СССР только пяти девушкам из области. Москва, военно-политическое училище, где непростое комиссарское ремесло вместо трех лет выучила за два месяца и стала лейтенантом.
На фронте попала в Седьмую отдельную армию Северно-Западного фронта на должность замполита медицинского отделения полевого армейского госпиталя - где-то на Севере. Работала со своим коллективом – листовки, газеты, писала письма для раненых. Был и маленький «подвиг»:
- Один раз пришлось с немцами встретиться, - рассказывает наша героиня. - Отправило руководство на лыжах с секретным донесением через лес. Еду и песенки пою, чтобы не страшно было. На мне – форма. Вдруг слышу немецкую речь, вижу четверых фрицев. Они меня решили окружить, отрезать путь назад. А мне вперед надо, и мне это не понравилось! О страхе тогда не думалось. Выстрелила я пять раз назад, благо значок «Ворошиловский стрелок» получен был. Была еще запасная обойма, но уже некогда было ее доставать. Вижу, нет никого – поднажала на свои беговые лыжи… Но впереди – на моем пути в сотне метров детина огромного роста, в немецкой форме. Зажмурилась, размахнулась палкой и его сбила – он-то не ожидал удара. Пока он копошился в снегу, с ужасом примчалась в деревню к нашим, а на крыльцо штабной избушки уже люди высыпали, спрашивают, мол, кто стрелял. В ту же минуту солдаты на лыжах кинулись в лес – а когда вернулись, лаконично доложили: «Лес очищен»… Письмо сберегла, оно не попало во вражеские руки!
Воевала до 1943 года, а потом с формулировкой «В связи с невозможностью исполнения службы по специальности…» демобилизована. Женщин уже стали тогда освобождать после ликвидации должностей замкомандиров рот и равных им подразделений нас, нестроевых офицеров, перебросили в Сибирь. Там и с мужем будущим снова чудесно встретилась. Ее давний знакомец по техникуму Иван Дмитриевич лечился в то время в госпитале Омска. По его признанию, как только увидел ее еще до войны, сразу «заразился» идеей на ней жениться. А ее потряс его рассказ: домой на него по ошибке пришла похоронка, и в родном Шенкурске родной отец не пустил в дом - мало ли народа шляется по ночным дорогам. Так и ночевал герой войны на крыльце дома.
- Свадьба была новогодняя - 31 декабря 1943 года, - вспоминала Боровикова. - На ней были мама, подруга да сестра Тоня. Из угощения – бутылка водки и буханка хлеба. Ивана вскоре призвали на нестроевую в Таллин, начальником военных складов, где и прослужил до 1946 года.
После войны - опять мирный труд в облпотребсоюзе, потом пригласили на работу в Октябрьский райком комсомола инструктором. Работа знакомая еще по фронту, комиссарская:
- До 1947 года жилось тяжело, карточки отменили, - вспоминает Ольга Николаевна. - Ничего в магазинах не было. Ухитрялась вязать детские шапочки из бинтов – резали их вдоль, подкрашивали акварелью, делали помпончики на завязках. Мама продавала на рынке, уходили влет. А еще покупали географические карты – они были на тканевой основе, верхнюю бумажную часть отмачивали от клея, шили ночные сорочки… Как-то нас обокрали – увели единственную козочку, унесли одежду.
И выдали инструктору от райкома «ордер на пальто». Так до пенсии и была Боровикова комиссаром – по жизни, уже в обкоме КПСС.
Выросли дочки, внучка, стали серьезными людьми. Тринадцать с половиной лет Ольга Николаевна руководила ветеранской организацией управления общепита и торговли. Позже создали они новую организацию – на общественных началах, провела там двенадцать с половиной лет... И опять - грамоты, медали, работа над памятными альбомами о боевых подругах по совету ветеранов. Ну, что поделать: комиссара «по жизни» трудно было отправить на пенсию даже в 95!
Сегодня Ольги Боровиковой с нами нет. Но, надеемся, что удивительный рассказ о жизни людей того поколения мотивирует читателей помянуть их всех…









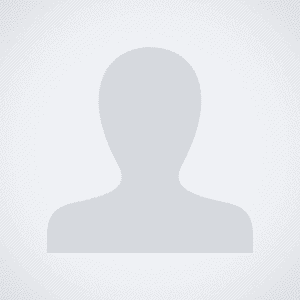





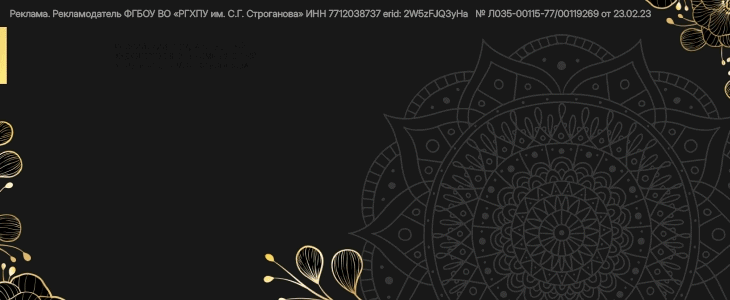
Комментарии 1
Добавление комментария
Комментарии